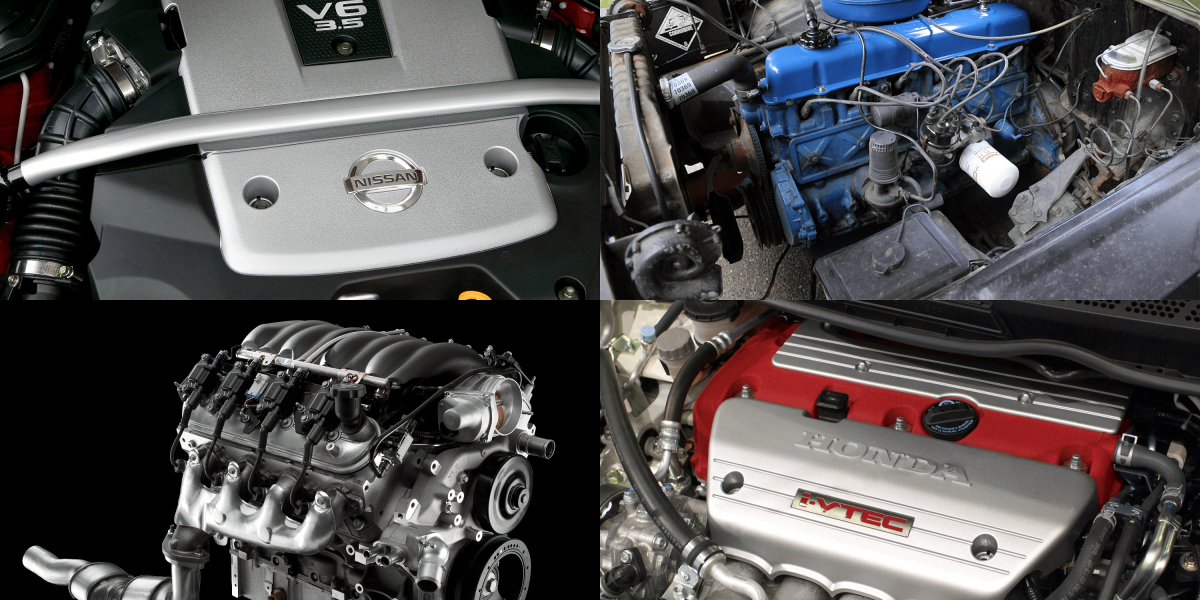Экспорт российского зерна, ещё недавно бывший предметом национальной гордости и гарантией продовольственной безопасности, демонстрирует тревожные сигналы. По данным Российского зернового союза, отгрузки за первую половину августа обвалились почти в два раза — до 2,9 млн тонн против 5,3 млн тонн год назад. Предварительная оценка на весь месяц — 4,5 млн тонн, что на 2,3 млн тонн меньше, чем в августе-2023.
Это не просто статистическая погрешность или следствие цикличности, это симптом системных проблем, которые рискуют повторить печальный путь другой российской сырьевой отрасли — угольной.
Ценовой тупик: почему покупатели уходят
Главная причина спада — потеря ценовой конкурентоспособности. Сегодня российская пшеница на мировом рынке одна из самых дорогих: $240-241 за тонну. Для сравнения, французская предлагается по $233, а американская — и вовсе по $219. Такой разрыв заставляет традиционных покупателей искать альтернативы.
География экспорта резко сузилась: пшеница поставляется всего в 27 стран против 60 год назад. Крупнейший покупатель, Египет, сократил закупки на 31%. Поставки в Турцию, занимающую второе место, рухнули почти в три раза — с 440 до 169,5 тыс. тонн. Катастрофическим (пятикратное падение) стало сокращение отгрузок в Алжир. Рост закупок такими странами, как Кения, не может компенсировать потерю ключевых рынков.
«Компактные урожаи» как следствие внутренней политики
Аналитики связывают высокую стоимость с «компактными урожаями», то есть с их сокращением. Но и здесь причина не только в погоде. Политика «охлаждения» экономики, включая дорогие кредиты, напрямую бьёт по агросектору. Главным же тормозом является механизм гибкой экспортной пошлины, который фактически вымывает прибыль аграриев.
Когда внутренние цены растут, пошлина увеличивается, изымая у производителей дополнительный доход, который они могли бы получить на внешнем рынке. Это лишает их стимулов и средств для инвестиций в расширение производства, обновление изношенной техники и внедрение новых технологий.
Государственная поддержка при этом не увеличивается, а сокращается. В результате отрасль начинает буксовать, не в силах наращивать объёмы и удерживать низкую себестоимость — своё главное конкурентное преимущество.
Угольный сценарий: история повторяется
Здесь напрашивается прямая аналогия с угольной промышленностью. Долгие годы Россия наращивала экспорт угля-сырца, поставляя его за рубеж россыпью по относительно низким ценам. Вложения в глубокую переработку (например, в производство сорбентов, графита или жидкого топлива, электроэнергии на бортах разрезов) были минимальными. Отрасль работала по инерции, пока не столкнулась с жёстким углеродным регулированием и логистическими барьерами со стороны основных покупателей.
В итоге угольщики оказались в ловушке: их продукт теряет спрос, а создавать новую добавленную стоимость они не готовы.
С зерном происходит то же самое. Вместо того чтобы развивать глубокую переработку зерна внутри страны — создавать мощности по производству высококачественных кормов, крахмалов, паток, глютена, биоэтанола и другой продукции с высокой добавленной стоимостью — Россия продолжает гнать объёмы сырья. Но как только ценовое преимущество исчезает, модель даёт сбой. именно это сейчас и произошло.
Выводы для будущего
Пока внутреннее потребление зерна полностью обеспечено, а экспорт носит исключительно фискальный характер (пополнение бюджета), системного кризиса не случится. Однако текущая ситуация — это громкий предупредительный сигнал.
Российский АПК рискует повторить путь угольщиков: стать заложником сырьевой модели, зависеть от конъюнктуры мировых цен и политической конъюнктуры, теряя рынки и не создавая устойчивой добавленной стоимости внутри страны.
Чтобы избежать этого, необходима смена парадигмы: от политики изъятия доходов через пошлины — к политике стимулирования глубокой переработки. Инвестиции в современные элеваторы, логистику и перерабатывающие комбинаты позволят экспортировать не дешёвое сырьё, а дорогой продукт. Это обеспечит отрасли устойчивость даже в условиях высокой глобальной конкуренции. Иначе страна может упустить ещё одно десятилетие и следующее сырьё, которое так и не стало продуктом.
Ну, а для того, чтобы зерно, как нефть, не стали «наказанием» России, следует заменить команду, управляющую агросектором. Ну уж, совсем они никакущие!